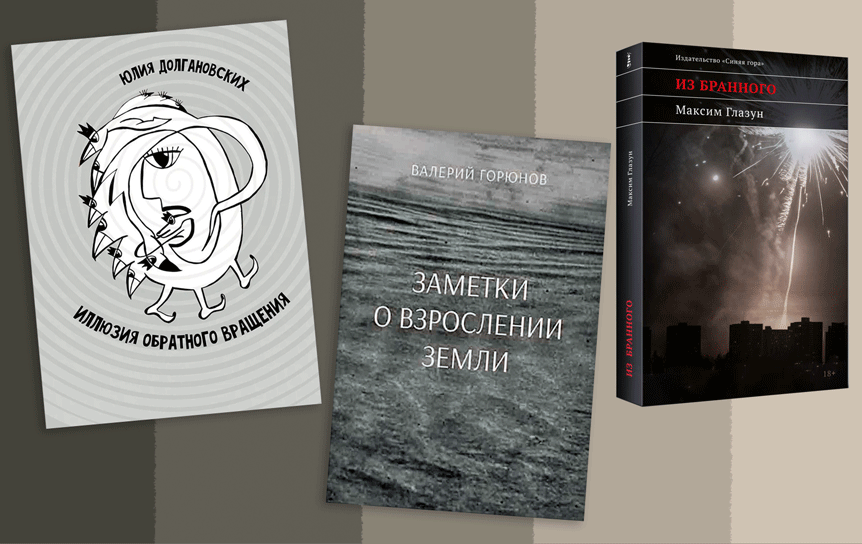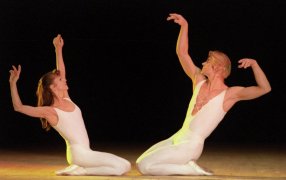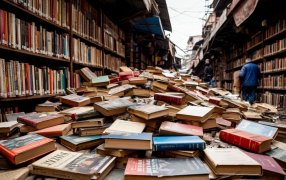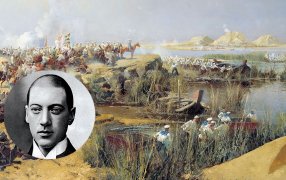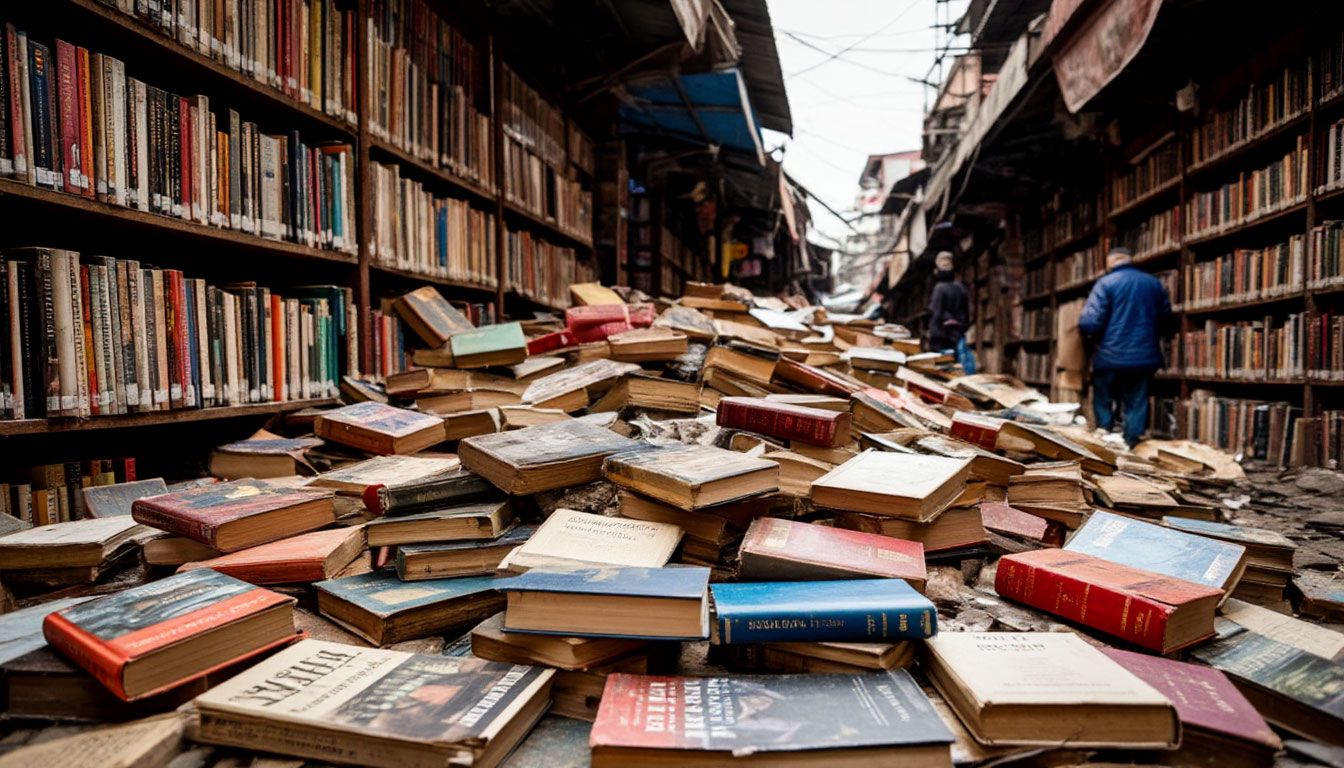Текст: Борис Кутенков
Прииском звучания
Валерий Горюнов «Заметки о взрослении земли»
- М.: Neomenia, 2025. — 42 с. Предисловия Александра Уланова, Владимира Коркунова, послесловия Анны Родионовой, Ростислава Русакова
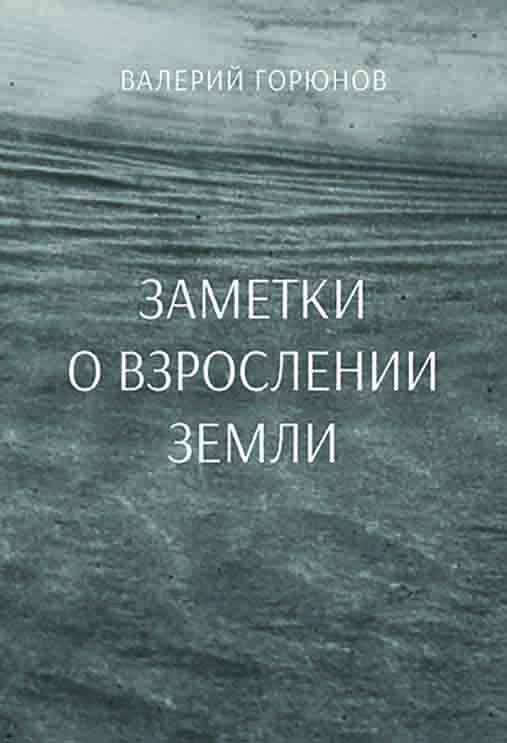
Валерий Горюнов — уникальная фигура в сегодняшнем культурном пространстве. Поэт, педагог и культуртрегер; литератор синтетического типа — редактор журнала «Всеализм» и организатор мастерской «Автор в лесу», помогающей развиваться молодым авторам. Всё это было бы не новостью, если бы не узнаваемая чуткость, присущая Валерию во всех ипостасях: умение «оставаться на равных» в наставничестве, в то же время «приходить на семинары, чтобы самому учиться», — характерные для его речи формулировки вспоминались и при чтении сборника. Перед нами опыт сотрудничества с природным универсумом; «диагностика», «лекция», «конкурс» — эти слова, бережно расставленные по натурфилософскому миру книги, побуждают осмыслить её в плоскости продуктивного ученичества. «Этот подход ненавязчив и экологичен, без элементов препарирования или гербаризации — даже интенций к присвоению мгновения через резкий фокус и яркую вспышку», — пишет в послесловии Ростислав Русаков.
- комар залетает в ухо
- прииском звучания
- и я становлюсь добычей
- асфальта
- в его теле зарастаю смолой
- укус начинает
- говорить отражая событие
- когда я стану асфальтом, слух перестанет зудеть
- <…>
Из предшественников такой род натурфилософии напоминает Айги (при очевидном влиянии Заболоцкого): бережность межстрочных пауз при ином отношении к работе с языком и семантическими сдвигами. Из современников — о Дарии Солдо в смысле полилогической и деликатной тесноты взаимоотношений с пространством; о Степане Самарине — целительности его стихов; о Валентине Трусове — структурно и эстетически. Всё это, в общем, черты определённого направления в современной поэзии, для которого характерен негромкий аскетизм — и переключение внимания в сторону этики, не мешающей, впрочем, художественной структуре текста. Эти стихи не станут вовлекать читателя декларативностью или особым родом суггестивной метафоры, но чают особой необходимости вслушивания; воссоздают — в противоположность вавилонской децентрализации — постоянный опыт диалога.
Человеческое в подобном диалоге постоянно не оправдывает себя, будучи «слишком человеческим», — заменяясь жестами понимания: особым родом угадываний. Так, в одном из ключевых стихотворений (по нему озаглавлен и один из разделов) эта мудрая бессловесность противостоит и медийному шуму. Лермонтовская метафора камня, вложенного в протянутую руку, заставляет переосмыслить себя, служа символом примирения и близости:

- новые люди потеряли язык,
- и на какое-то время
- вернулось вавилонское столпотворение
- голосов, издающих
- бессмысленные междометия.
- письменность,
- на которую возлагались надежды,
- вызвала одышку и панические атаки.
- слишком человеческое прекратилось.
- повсюду пасмурный рыбий клёкот…
- протягиваю тебе камень,
- и ты понимаешь: прости меня.
- базилико молчу,
- и ты догадываешься,
- что приготовить на ужин.
Таков обогащающий и взаимный опыт нового познания в бесконечных вопросах и ответах. Слово «чуткость» обретает вполне определённую прагматику — «вонзаясь в сердце стрелявшего», расщепляясь на множество морфем. Принося, наконец, свои всходы в виде новых мастеров деликатного вслушивания:
- позвоночник стрелы — её будущий ствол.
- чу — милостыня губ
- непрерывно впитывающих корней.
- «чу» отвечаю я им
- за секунду до появления леса.
«И сады на прощание снятся…»
Юлия Долгановских "Иллюзия обратного вращения"
- Волгоград : Перископ- Волга, 2025. — 180 с. — илл. Предисловие Ирины Чудновой
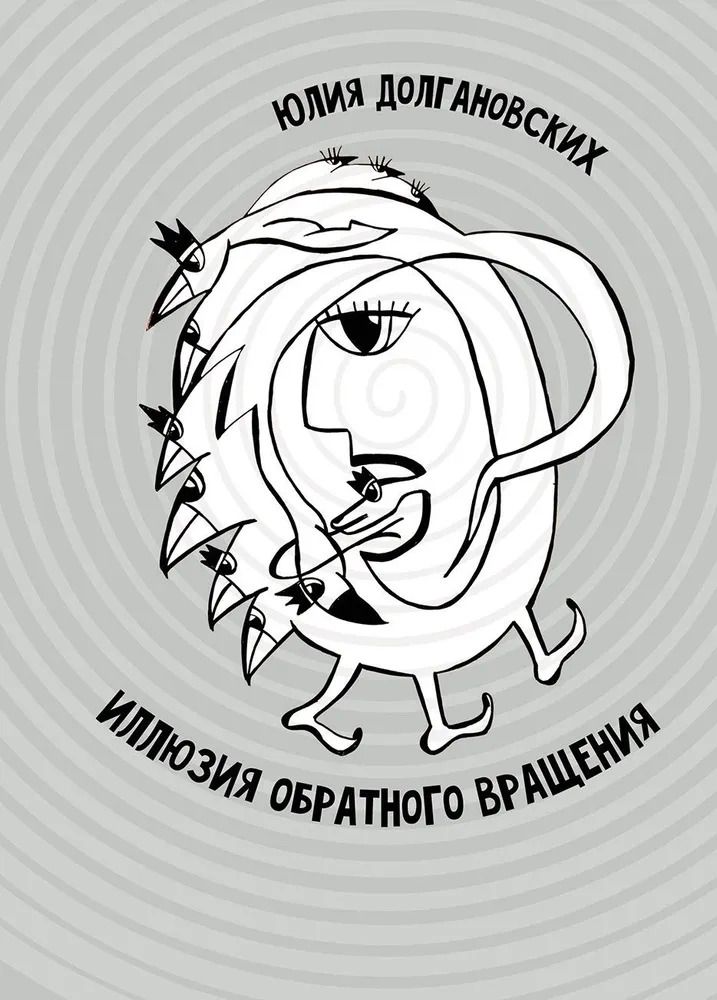
Многоступенчатая метафора, напоминающая о наследии Жданова, Парщикова и Таврова; речь о «неисчерпаемой вещи», по определению автора, — всё это узнаётся в книге Юлии Долгановских. Поражает строгая дисциплина этих стихов, умение не отпускать поводья слова при одновременном множестве семантических парадоксов. Так, в процитированном ниже тексте — и реминисценция известной страшилки про «чёрную-чёрную комнату», и «чёрная речка», напоминающая о пушкинской дуэли; но и что-то ещё, засловесное, важное и нетривиальное сообщение о катастрофизме земного мира. В каждом стихотворении Долгановских есть и изнанка бытия, и его внешняя, вещная сторона, — текст строится на их взаимопричастности, ни на минуту не упуская мандельштамовского принципа «таинственности брака в простом сочетании слов».

- Желает знать охотник каждый,
- споткнувшись во перво́й строке,
- куда летит фазан бумажный,
- и почему фазан — бумажный,
- и чёрный карандаш — в руке.
- Чернеет спелая рябина,
- и облепихи чёрной гроздь
- под чёрным солнцем греет спину,
- вот чёрный лес — в нём чёрный гость,
- задравши голову дурную,
- грустит по чёрным небесам.
- Охотник, голову понурив,
- и сам взгрустнёт — фазан, фазан!
- Ни ветерка. У чёрной речки,
- подстрелен рифмою дурной,
- лежит бумажный человечек —
- весь белый, весь такой другой.
- Над ним не плачет ангел ночи,
- над ним парит не ангел дня —
- фазан!
- И карандаш, заточен,
- летит, нацеленный в меня.
Спектр интерпретаций этого стихотворения многообразен: здесь и ирония над «тоской по чёрным небесам», и грустная рефлексия над эпохой, не предполагающей «великих» судеб. И тарковское предостережение о слове, в котором «на тебя любая строчка точит нож в стихах твоих». Но в основе всего — апокалиптическое восприятие мира, как раз и побуждающее героиню Долгановских видеть неочевидное там, где другие наблюдают лишь безмятежность. В картине воскресного парка — «смотрят дети лохматые / на двуглавых ягнят // припадают на лапы / на задние лапы / озверевшие папы / воскресного дня». Библейский подтекст — твердь, летящая на головы, — и в сцене купания:
- рубите иордань — спасайте рыбов
- под толстым слоем льда грядёт замор
- в минусовой купальне вы могли бы
- увидеть их последний разговор
- и стоя нагишом среди бетона
- ступнями попирая рыхлый снег
- не слышать как воды седьмая тонна
- пробивши твердь легко и неуклонно
- на голову летит — се, человек
Книга огромна и пестра — даже чрезмерно; этот объём и некоторая несобранность вполне соответствуют её барочной избыточности. Но самые лучшие стихи — всё же условно «минималистические»: в восемь, двенадцать строк, с предельно сконцентированным смыслом. Звук («свет», «сад», «воды», «сады») сам выстраивает чёткую парадигму, ведёт в экономном пространстве. Повышая удельный вес каждого слова. Выстраивая лирический шедевр — где вода, как свойственно Долгановских, апокалиптически «громыхает», сон неотделим от яви, но за словами — живое рождение, данная в богатстве красок, звуков и ощущений процессуальность сотворения:
- Свет придёт, словно сад из-под сонных ресниц,
- где цветы и плоды расплескавшейся краской
- по края заполняют воронки глазниц,
- пробуждение делая зыбким и вязким —
- так, что полые вены забудут, куда
- открываться и чем, боже мой, наполняться.
- В темноту, в слепоту громыхает вода,
- и сады на прощание снятся.
«Я только тело текста…»
Максим Глазун. Из бранного.
- М.: Синяя гора, 2025. — 304 с. Предисловие Марины Лемешевой
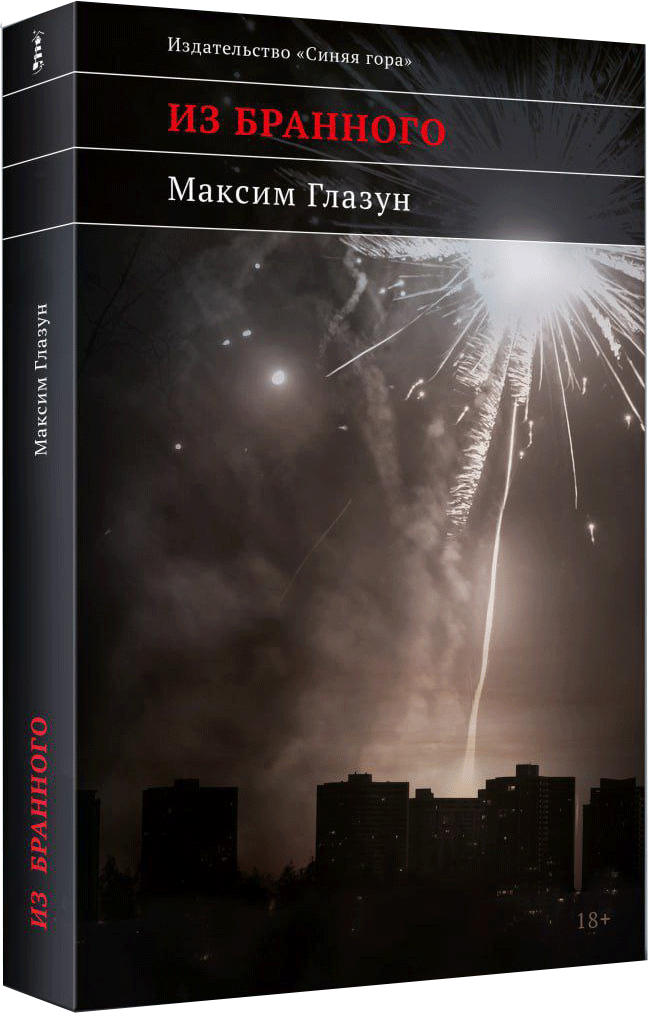
Голос Максима Глазуна в современной поэзии узнаётся безошибочно: хтоническая, ворчливая и в своём роде весёлая сатира на мироздание; беспрерывность речевого потока, так отвечающая принципу этой сатиры. В каждом стихотворении возникает особый, приговский эффект «растворённого содержания» — мельтешение калейдоскопа (при мастерской версификации и композиционной завершённости каждого текста), рефлексия брюзжащего комментатора над потоком телевизионных новостей; их перебор и переработка в юродивом сознании (отсылая к словам Михаила Эпштейна о поэзии Пригова как выражении «народного любомудрия», «мыслительства», которое «ещё не отделилось от урчания в животе и от почесывания в затылке»). Если, по Мандельштаму, «нам остаётся только имя», то в стихах Глазуна остаётся только голос — плывущий над всем, остраняющий это мельтешение. Похоже, нет того, что не могло бы попасть в стихотворение при выбранном методе. Нашлось место и автору этих строк — в соседстве с поэтом Ростиславом Ярцевым. И кажется, что здесь весело передразнивается романтический пафос — ему действительно чужда поэзия Глазуна:
- болящее моё прими,
- скажу, как ярцев с кутенковым,
- давя на точку мимими,
- не действуя по протоколу.
- возьми, скажу я, всё болит —
- и принеси, чтоб не болело.
- я буду долго. либо. ли.
- я только тело текста. тело.
Но так ли далёк от этой поэзии романтизм? Марина Лемешева в предисловии (споря с моими давними словами о том, что лирике автора близки приговское «любомудрие» и губановская «потоковость») пишет о форсированном внимании Глазуна к самому себе; забрасывании своих подписчиков стихами как особом роде любви в поэзии. «В кажущемся нарциссизме — забота о ближнем. Под видом эгоизма — альтруизм. А и правда: какие такие дела важнее, чем поэзия?» Многописание и избыточность присутствия здесь значимы, так как позволяют выйти за границы стихового — в область «коллективного тела текста»; как бы экстравертности сотворения, которая так соотносится с перенаселённым миром этих стихов. Та же Лемешева, ссылаясь на слова Глазуна о предшественниках, упоминает Цветаеву. Эта параллель тоже будет верной, и она, опять же, простирается далеко за пределы эстетического — не ограничиваясь отношением к «единице смысла» как «слову и даже звуку». Есть всё же и что-то большее — сдвиг границ между жизнью и литературой, постановка себя в центр мироздания как исходного субъектного центра в этом перемалывании составляющих «лирической печи»:
- широкие поля тетрадей пропахал
- десяток перегрыз венозно-синих ручек
- домашние мои когда я их сдавал
- казались мне родней чем были или лучше
- возьми да расскажи учителю положь
- для вскрытия на стол сдавайся с потрохами
- ошибки это стиль всё остальное ложь
- всего сильнее жаль что не было стихами
Отношение к собственным тетрадям как к полевому подвигу — трогательно и несовременно; это очень по-цветаевски, как и само исключение понятия негации. Всё должно быть стихами, «все должны сгореть на моём огне»… (Случайно ли, что за строками Глазуна то и дело узнаётся ворчливый скепсис Дениса Новикова, которого Виктор Куллэ в ключевой статье 2007 года сравнивал с Цветаевой — эстетически и человечески?..) И всё же в одном из лучших стихотворений книги есть куда более важный манифест литературной будущности — по сути, сдвиг границ между настоящим и будущим.

- как принято в рифмованных стихах
- икаются и каются в грехах
- я напишу о шелесте полей
- о принятом решеньи не жалей
- про времени отложенный развод
- про палку не стреляющую год
- про то что оторвавшись не умрёт
- про слово в твой положенное рот
Слово, ещё не написанное и уже «положенное в рот», априори полезно, согласно этике этих стихов. Детское и трогательное доверие Глазуна к слову — безусловно, вообще-то с таким только и нужно идти в поэзию; не беда автора, что оно с ребяческой избыточностью распространяется и на воспринимающего. Но за всем этим, кажется, встаёт и новый род лирической экзистенции — так отличающийся от того, что «принято в рифмованных стихах».
И что-то позволяет верить в то, что этот сборник молодого поэта действительно — событие, которого ждали если не пресыщенные современники, то перенаселённый рай поэзии. Юродивое пророчество и весть о времени здесь завораживают. Завораживает интонация, сочетающая страшное и весёлое, требующая от читателя не отворачиваться. Проблема — в современности, которая никогда не сможет дать поэту желаемой дозы внимания, — возможно, как раз в отместку на горькую правду о себе самой. «Времени отложенный развод» жесток в этом смысле, но именно его «отложенность» и позволяет надеяться на справедливость. И, возможно, не стоит достигать её при жизни, требованием внимания подписчиков; однако сама правота поэзии уже дала о себе знать. Она — в сборнике Максима Глазуна.