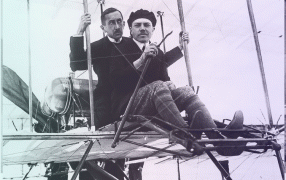Текст: Борис Кутенков
Павел Сидельников. «Долгое дыхание»
- — М.: Издательство «Наш современник», 2023. — 54 с.
В предисловии к дебютной книге Павла Сидельникова Дарья Ильгова пишет о «попытке проговаривания мира для познания себя». Первооткрытие мира и первоузнавание себя в нём становятся ключевыми сюжетами этих стихов.

Полудетское ощущение, которое дарит эта книга («пределы речи — вдруг ожившие предметы…»), напоминает об известном рассказе Бориса Житкова об оживших человечках и одаряет детской радостью; иногда — воплощается в страшное («А то вся жизнь пройдёт, пройдёт она сейчас, / и вот оно убьёт — незаменимых нас…»); но чаще — выступает как предмет рефлексии поэта над речью: уходящей корнями в оберегающее детство, где звуковая спонтанность была предвестьем поэтической функции. В одном из лучших стихотворений книги («Пределы речи…») все эти функции объединяются: есть и ужас дуновения иной реальности, и игровое движение книг на полке, но итогом всё равно становится речь поэта как метафизический объект.
- Пределы речи — вдруг ожившие предметы.
- На полке книжной — книги долго не стоят,
- они играются
- и за других хватаются,
- как избалованные дети.
- И если припугнуть зловестным «ять!»,
- то сразу прячутся:
- кто — за журнальный столик,
- кто — под скрипучую кровать,
- кто — в деревянный шкаф залезет, как любовник.
- И никого из них не разобрать,
- когда начавшаяся речь — не выстроенный ряд,
- а — впопыхах,
- на ощупь,
- невпопад.

В наиболее удачных стихах Сидельникова интрига первоузнавания не выходит на уровень самоцельных сравнений — автор сразу берёт высокую планку. Так, в «Кувшин, наполненный водой…» баллада в духе Юрия Кузнецова продолжает одновременно лермонтовскую и ходасевичскую традицию сна во сне. Текст, начинающийся с акмеистической конкретики, превращается в трансцендентное видение, сплетённое сложными ассоциативными связями с биографической первореальностью, — отчего кажется почти неразложимым. В другом — «пейзаж так сказать стёрся и свыкся…» — не проговорено происходящее «безумие», на фоне которого сдвигаются предметы: оно окружено молчанием то ли из деликатности, то ли — как контрастный эвфемизм, но именно на его фоне целое обретает эмоцию бесстрастного фиксирования сдвинутого мира.
На фоне этого сдвига «прогалины выключенных сумерек / слабеют и слепнут словно свечи», яблоко «ворочается как неспешный свет на языке». Движение вне героя, в котором ощущается и его простая человеческая беспомощность, и какая-то неуловимая связь с хтоническим абсурдом сегодняшней жизни (наше «свыкание» с «происходящим безумием»), напоминает уже о поисках позднего Заболоцкого — хотя, разумеется, интерпретации этого движения могут быть разными.
- пейзаж так сказать стёрся и свыкся
- со всем происходящим безумием
- деревья врастающие в пиксель
- прогалины выключенных сумерек
- слабеют и слепнут словно свечи
- в моём пребывании обыденном
- на кухне за обедом и вечер (В этой строке авторский курсив. — Б. К.)
- в движении своём электрическом
- хромом и хранящем вдалеке
- очищенное яблоко спелое
- ворочается как неспешный свет на языке
- как будто игрушка «юла»
- то вправо то влево пошевелятся
- два трепещущих крыла
Там же, где первоузнавания сводятся к самоцели обаятельных параллелей, мы имеем дело со сравнениями скорее шестидесятнического, а не метареалистического толка (памятуя об антитезе этих сущностей в теориях Михаила Эпштейна). «Сигарета, как память о мире — раскрывшемся, словно бутон» — это напоминает о Вознесенском; связь с шестидесятничеством в лирике Павла Сидельникова вообще нескрываема — подчёркнута эпиграфами, осовременена дыханием новейших поэтических течений (условно объединим их под именем «постпостмодерна»), но от первоисточника остались романтика и лёгкий пафос. Возможно, их не хватает современной поэзии. Возможно, само наследие шестидесятничества в сегодняшней поэзии ассоциируется с любительскими опытами — и именно его прививка к «дичку» двадцатых годов XXI века ведёт в новизну и самобытность.
Весь этот разнообразный спектр ощущений — от шестидесятнической романтики до ужаса хтони, от неизбывной радости детства до связанной с ним проблематизации поэтической речи — и способна подарить книга «Долгое дыхание». Книга автора, ещё находящегося в поиске своего стиля, но уже радующего удачными метафизическими поисками — и совершенными находками по гамбургскому счёту.
Елена Севрюгина «Раздетый свет»

- — М. : Синяя гора, 2023. — 68 с.
Проблематизация поэтической речи становится ключевым сюжетом и в поэзии Елены Севрюгиной: «ты река / текущая строка / ты строка / текучая река / прорастает в корне языка / звук не осязаемый пока / и горит надмирный горловой / голос твой». В такой переполненности книги различными упоминаниями стихотворной музыки — как утешения, контраста «земному», главного направления стилистических поисков — может почудиться и некоторая избыточность, и — любование собой-поэтом. Концентрация на одной теме способна поначалу слегка утомить, но и — парадоксальным образом — помочь увидеть книгу целостной, и — найти точки соприкосновения в поэтической рефлексии. Однако в одном из лучших стихотворений книги «засыпают низы а потом забывают верхи…» речь выходит на уровень истинной растворяющей стихийности (об этом свойстве стихов Севрюгиной точно и восхищённо пишет в одном из предисловий к «Раздетому свету» Владимир Гандельсман) и — иной проблематизации. Здесь уже не до постановки себя в поэтический ряд с теми или иными и не до эскапистской функции; разговор о сложной — и лишь отчасти зависящей от собственного усилия — переплавке стихотворным мелосом. Пожалуй, именно здесь затёртое понятие «лирический герой» обретает оправданность — как зазор между первореальностью и многомерной поэтической сущностью. Хотя тут-то героя как такового нет, а есть его тугоплавкое растворение в слове:
- засыпают низы а потом забывают верхи
- из глухого огня вырастает треножник ольхи
- распадается круг возникает забвенная зона
- тень ложится на грудь горизонта
- воспалённо дыша заболевшей удушьем весной
- вырастаем из тел кочевых из обугленных снов
- из ветрами потресканной кожи
- на себя непохожи
В другом стихотворении Елена Севрюгина возвращается к этой теме «на себя непохожести» — с одной стороны, воспроизводя тему культуры как диалога и фактически реминисцируя ахматовское «подслушать у музыки что-то / и выдать шутя за своё», а с другой — проговаривая нечто сущностно более важное, вновь отсылая к посреднической функции речи, её самопознающему зазору:
- словно под сердцем проснулась трава
- словно хрустальную чашу разбили
- это поэзия это слова
- так ли уж важно твои ли мои ли
- знать не положено я или ты
- миг или вечность провал или слава
- чтобы забрать у чужой темноты
- то что внутри неё светится слабо

Подобное ощущение контраста между ужасом перевоплощения и интригой самоузнавания дарят многие стихи книги: так, в «заснёшь неизвестным героем пробудишься данте…» этот пафос выражен уже в первой строке. В дальнейшем ходе стихотворения, где говорится «и станешь ничем что тебя до сих пор окружало…», есть намеренная нигилизация, оборачивающаяся своей противоположностью и характерная для лирики Севрюгиной: слово с отрицательной коннотацией приобретает функцию значимого объекта. И в этом чувствуется приём умаления себя на фоне высшей сущности — «бесплотного пилота», «волн подпольного моря»; метафорика растворения в «Раздетом свете» разнообразна и самодостаточно красива.
Темы «малости» и «милости» речи, даримого поэзией «вселенского диалога», сращения «лица» и «лица» Севрюгина варьирует вновь и вновь: «век человеческий малость ли милость / душного тела сейсмический смог / снова лицо на лицо наслоилось / стало родным примелькалось приснилось / чтобы вселенский продлить диалог». «Наслоение лица на лицо» способно отослать нас к вечному вопросу о литературной маске, о — вновь — лирическом герое и — вновь — зазоре между «первой» реальностью и бытием. Книга Елены Севрюгиной, таким образом, филологична, но не в смысле цитатности (отсылки растворены в крови стиха, эксплицитных аллюзий немного) и даже не в расхожем ахматовском смысле («Мы — филологи») как любви к слову и попытки докопаться до его корней, а в самой рефлексии над поэтическим процессом, где — нескрываема функция критика, культуртрегера, кандидата филологических наук. Рефлексия обращена на саму себя и претворена в трансформированное слово.
Впрочем, не стоит воспринимать эту книгу как автокоммуникативный «учебник» поэзии. Есть в ней и прозаизированные верлибры, в которых видится вызов самой себе — как жест прямоговорения, сбрасывания с себя (в той или иной степени, иногда — полностью, как в обытовлённом «Ohana») метафорической кожи. В наиболее удачном из них — «на втором этаже…» — вновь появляется тема совмещения реальностей, но уже в другом ключе: как разговор о мире, «лежащем в сфере неочевидного».
- если настроить зрение
- к миру лежащему в сфере неочевидного
- можно увидеть лестницу
- ведущую прямо к асгарду
- к исполинскому ясеню
- к дереву игдрассиль чьи могучие корни
- соединяют небо землю и преисподнюю
Ради этого преобразующего опыта познания иной реальности и стоит читать книгу Елены Севрюгиной. Стоит это сделать как собрату по творчеству, так и просто наблюдателю в жизни разного рода «неочевидностей».